
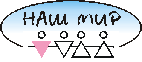
Если почитать немного заграничные геевские журналы (как это красиво и несбыточно звучит: геевские журналы!), остается только завидовать иностранцам. Они свободно выходят на свои парады, для которых одеваются в яркие перья, и за это их никто не тащит в милицию, то есть в полицию. И кварталы голубых фонарей там есть, и службы знакомств - все, что человеку надо. Посмотришь на все эти радости - и просто тоска берет, почему я здесь, а здесь все совсем не так?
В чем тут причина - кто знает? Я считаю, все дело в смелости, в этом самом каминг-ауте. Если ты боишься людям признаться, что голубой - значит, считаешь себя хуже других. И другие боятся, оттого у нас так плохо все и выходит. Поэтому, я так считаю, главное - самому признаться, что ты такой и не стесняться об этом во всеуслышанье объявить. Страшно? Еще бы. Но нужно. Узкая тропинка, но других дорог в царство гей-прайдов нет.
В книгах обычно рекомендуют каминг-аут, или по-русски сказать, выход из подполья, осуществлять постепенно - признаться сначала парочке друзей, потом еще кому-нибудь. Но мне это никак не подходит - друзья меня совсем не поймут. Они привыкли, что я в компании веселый и беззаботный, и никаких проблем мы там не касаемся. А если я им скажу - прощай, веселье, все время на меня пялиться будут, выходок каких-то особенных ждать. Нет уж. Да и мелко это как-то. Если уж из подполья выходить, то по-солидному - объявить всем сразу и не мучаться.
А где в нашем городе можно много людей увидеть? Не на улицах, конечно - там, если какая-нибудь полусонная фигура вдали замаячит - уже радость. И не в парке - там вообще никого нет, кроме покосившихся аллегорических фигур. Люди у нас только на базаре собираются - вот туда и я пойду, чтобы свой честный каминг сделать.
Прихожу. Народу, как обычно, полно, все с сумками на колесиках, не протолкнешься. Шум стоит, из-за мест ругаются - кто раньше пришел, кто позже. Цены клянут, и правительство заодно - в общем, на базаре как на базаре. Я себе место уже давно присмотрел - стоит такой себе заброшенный киоск, там раньше союзпечатью торговали, а теперь нет никого. Подходы удобные - я вообще не трус, но и не такой идиот, чтобы о подходе-отходе не позаботиться, и народу вокруг полно. Пробрался я в узкую щель, где нога человека со времен коллективизации не ступала, залез аккуратно на этот ржавый киоск и стал, так, чтобы меня было хорошо всем видно. Но никто - никакого внимания, поскольку на базар не в небо глядеть ходят. Пришлось закричать громко: "Люди! Слушайте, что я вам скажу! Слушайте!" Это кое-какое оживление вызвало, не то, чтобы очень большое, но человек сорок ближайших обернулись и стали высматривать, кто там сверху орет. Головы подняли и на меня глядят. Я им говорю: "Люди! Знайте, что я - гомосексуалист!". Они орут бестолково "Кто-кто?". "Я - гомосексуалист, по вашему - голубой. Я мужчин люблю, и ничуть этого не стесняюсь. Ничуть, поняли?" Они там внизу стоят ошарашенно, глазами хлопают, а мне так хорошо стало, легко, я руки раскинул в обе стороны как самолет, надо мной небо такое же, как у меня душа - голубое-голубое, и по нему облака легкие небрежно проплывают, а я кричу им всем, этой толпе: "Я голубой, и я ничем, ничем не хуже вас. Смотрите и завидуйте!!!". Тут до них наконец дошло, о чем это я рассказываю, смотрю - зашевелились немножко, только смотрят почему-то равнодушно, и ни радости на их плоских лицах не написано, ни ненависти - вообще никаких чувств. Сзади подходят другие с сумками - слышу, спрашивают, это еще кто, а им в ответ - да вот, придурок какой-то на киоск залез, и кричит, что он - голубой. Перед выборами на машинах ездили, агитировали, ну там хоть партии были, а этот чего орет - непонятно. "Люди! Ну поймите же, я не такой, как вы, у меня даже гены другие, меня женщины не волнуют ничуть", а какой-то мужик снизу кричит, что его женщины тоже давно уже не волнуют, поскольку жрать нечего. Ну как им что-то докажешь?

Расходятся постепенно, ничего им не надо, а мне что остается - по железной крыше прыгать, чтобы на весь рынок шумело, или может, кривляться на манер какого-нибудь Моисеева? Глупо это, ничем их не удержишь, покатили дальше свои сумки, по ногам друг другу возить и торговаться за пятак с ненавистью. Осталась всего парочка, самых граждански активных. Один мужичок какой-то неказистый, в грязных брюках, а вторая - торговка покрывалами и простынями, но она вообще-то с самого утра тут стояла. Мужичок мне кричит: "Ты гомик грязный, ты - ущербный, нечем тебе гордиться. Житья от вас уже не стало - и в газетах вы, и по ящику. Тебя лечить надо, поскольку ты - больной". Я говорю на это: "Мужик, ты меня ущербным называешь, а сам-то ты хоть раз в зеркало смотрелся, харю свою паскудную видел? Я, может, и грязный гомик, но у меня хоть туфли начищены, и сам я умыт, а ты, сексуальный гегемон, на что похож?" Товарищ на это рот открыл, а что сказать - не знает. "Больной ты," - наконец выговорил, - "лечить тебя надо, а мне с тобой тут рассусоливать некогда". Повернулся и исчез в толпе, а эстафету его дебелая баба подхватила. "Боже, да что ж это такое делается! Голубая зараза уже и на базар проникла! Они ж детей наших, крох невинных одним своим видом развращают, а потом известное дело - рожают в двенадцать лет, СПИД разносят. Есть ли тут вообще мужики - эта сволочь на киоске рожи людям корчит, и никто не может ничего сделать. Стащили бы оттуда, дали бы в морду, чтоб впредь неповадно было". А мне, между прочим, сверху все видно, и то, что она за этим монологом совсем про товар свой облезлый забыла. "Мадам," - говорю, - "не того ли вы мужика призываете, который только что у вас с прилавками какой-то целлофан упер?". "Проклятые голубые, ..., ... и ..., я бы вас всех поубивала, из-за тебя, ..., покрывало унесли, оно в Турции сорок долларов стоит, да что ж это такое" и дальше матом-перематом совсем уж всплошную. Нет, думаю, на крыше этой делать мне больше уже нечего, эйфория моя прошла, слушатели неблагодарные разошлись, тем более вижу, что к месту происшествия уже какие-то сытые хари в форме направляются. Они-то мне уж точно ни к чему. Слез я аккуратно со своей трибуны, мимо кирпичной стенки протиснулся и решил отправиться домой по кратчайшей дороге. Гражданский подвиг я совершил, а большего от меня сегодня требовать не стоит, и вообще - теперь очередь остальных.
Прохожу мимо ряда, где обоями торгуют - а меня кто-то за локоть деликатно так тянет, я от неожиданности вздрогнул, думал - мужики наконец нашлись. Нет, это парень моего возраста, один вроде, в турецких штанах, они еще спортивными называются, страшненький, зубы - как клавиши у рояля. "Ты чего", - меня шепотом спрашивает, - "совсем офигел? Чего ты там орешь про голубизну свою. Мало тут, думаешь, наших, торгует. Я вот, Мыша с Феей на пару зонты возят, еще один очками черными промышляет, и еще полно, и никто не орет, что голубой. Тебе что - больше всех надо? Хочешь, чтоб всех вместе вычислили и поимели? - Нет, не хочу. - Ну тогда орешь чего? - Я, понимаешь, хочу, чтоб как на Западе было - журналы, службы и по праздникам в перьях ходить. - В каких еще перьях? Какой Запад? Чего ты на базаре вопишь, засветишь всех, придурок," - шепчет, а у самого глаза по сторонам все время косят, как у зайца. Вижу я, что ничего этому типу не объяснишь, локоть свой аккуратно высвободил и пошел.
Прохожу мимо всех рядов, сердце стучит, все мне кажется, что еще кто-нибудь выскочит, узнают, но нет - ничего, все спокойно, вроде никто меня больше не видел. Мысли какие-то упаднические в голову лезут - не для наших широт северных этот экзотический плод - камин, как его, аут, не будет он тут расти. Ничем эту массу не всколыхнешь - ни голубыми, ни повышениями цен, ни концом света. Вот как я думаю. А в это время навстречу мне выныривает бабулька-пенсионерка, какие-то меленькие коробочки под нос сует. "Голубенький, голубенький, посмотри какая косметика. Фирма известная - "Мэри Кэй", эффективно очищает кожу, обладает тонизирующим действием, как раз для тебя, голубенький". Я скорей в сторону, и быстрым шагом вперед, а она за мной, а за ней еще бабульки, с пудрами, помадами, париками, женскими лифчиками, и каждая свой товар расхваливает, на весь базар орет, я быстрее, они тоже, и уже из нас образуется какая-то комета, я лавирую между манекенов, застывших с пустыми взглядами и открытыми ртами, слева и справа мелькают прилавки, все чаще, чаще, я уже бегу, и ветер свистит у меня в ушах, а где-то высоко надо мной, в голубом-голубом небе застыли, как приклеенные, белые пушистые облака.
|
|
|||

|
|

|
|